Системным трендом является то, что меньше, чем в половине случаев, арбитражные управляющие не получают то вознаграждение, которое им положено по закону. В настоящее время сформирована практика финансирования процедур банкротства за счет самих арбитражных управляющих, когда изначально (или вообще) в конкурсной массе нет денежных средств или активов: управляющие месяцами (а иногда – и годами) работают без вознаграждения, несут расходы на публикации, почту, госпошлины, юридическое сопровождение. Вознаграждение с 2009 г. не индексируется (вспомним мотивировку из недавнего постановления КС РФ по госпошлинам), на понесенные управляющим за свой счет расходы не начисляются проценты за пользование, а процентная часть вознаграждения является предметом постоянной атаки участников дел. Пока что эта система держится (как правило, за счет того, что доходы управляющих от одного дела перекрывают расходы по другому делу/делам), но как долго это продолжится, особенно с учетом введения госпошлин, – вопрос времени. Также обратим внимание, что наличие такой статистики по делам о банкротстве граждан удивлять не должно – заложенный в Законе о банкротстве механизм оплаты фиксированного вознаграждения через депозит арбитражного суда нередко приводит к тому, что по завершенным в одном календарном году процедурам управляющие получают выплаты из суда только в следующем году.







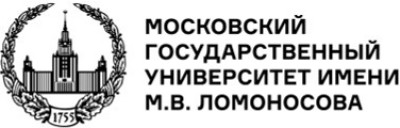


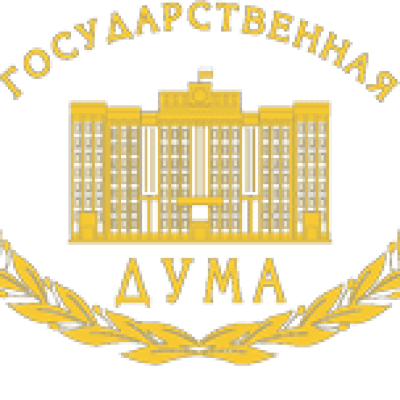






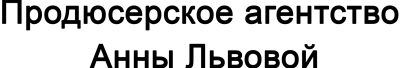

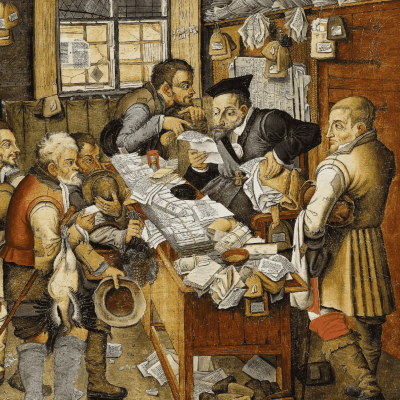



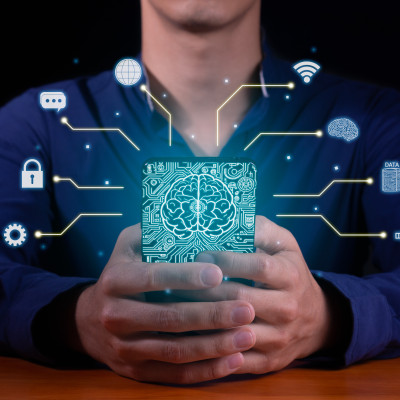
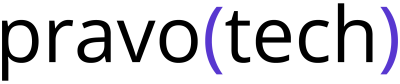





















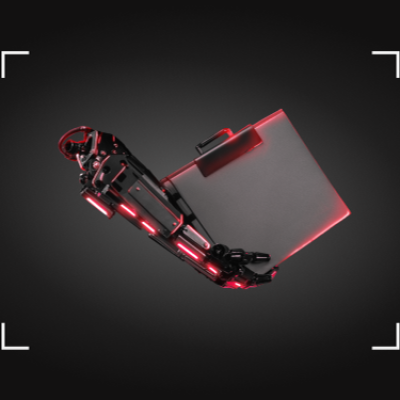







Мне не известна ни одна юрисдикция, в которой бы такая система успешно использовалась, получала положительные оценки профессионального сообщества, судей, теоретиков права. Более того, теоретическое обоснование методологии рейтинга ФНС в России также нигде и никогда не озвучивалось. В целом, ретроспективность подхода вызывает вопросы: если бы АУ знал, что его будут оценивать, возможно, он бы проводил процедуру как-то по-другому.
Меня также радует тот факт, что в определении о передаче отражен довод жалобы о том, что заявитель «не согласен с выводом о возможности обусловить выплату причитающегося процентного вознаграждения не результатами деятельности финансового управляющего, а интенсивностью его работы». В процессуальных документах лиц, оспаривающих размер процентного вознаграждения управляющего, регулярно встречается довод о том, что управляющий всего лишь продал имевшийся актив: это несложно, и платить здесь не за что. И данное дело не стало исключением. Будем надеяться, что в итоговом судебном акте Экономколлегии наконец-то ему раз и навсегда дадут правильную оценку: Закон о банкротстве никогда не привязывал выплату процентного вознаграждения к сложности дела и наоборот. Я не знаю ни одного случая, когда суды бы сказали, что управляющий продал очень сложный актив и ему нужно увеличить процентное вознаграждение. Работа управляющего состоит в том, чтобы качественно прилагать усилия и свою экспертность для достижения результата в виде продажи актива и расчета с кредиторами.