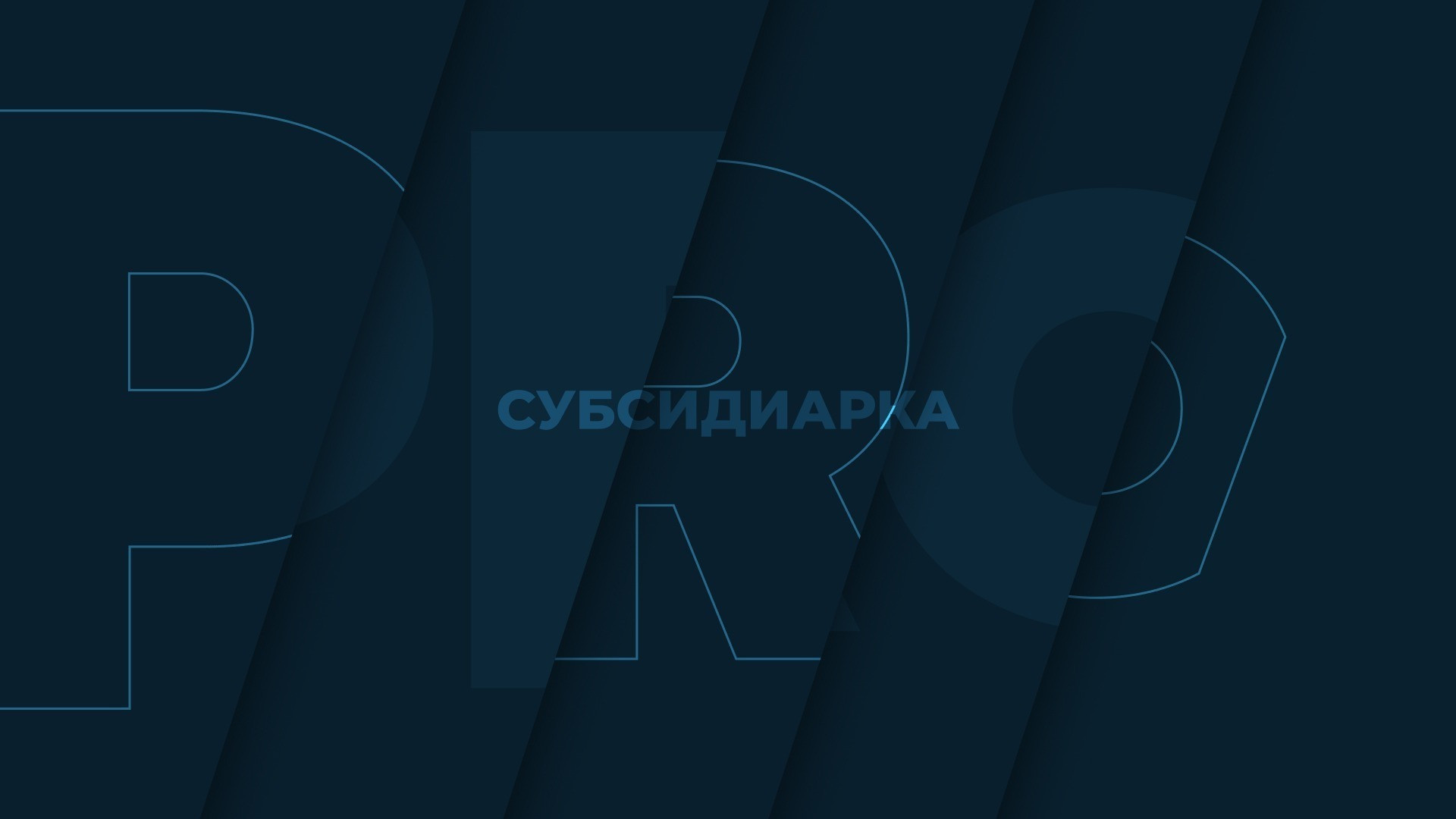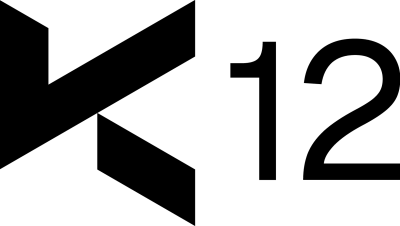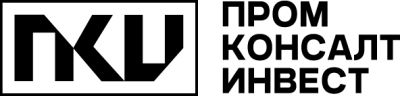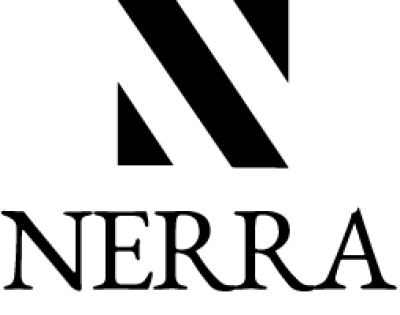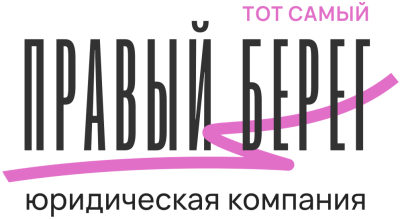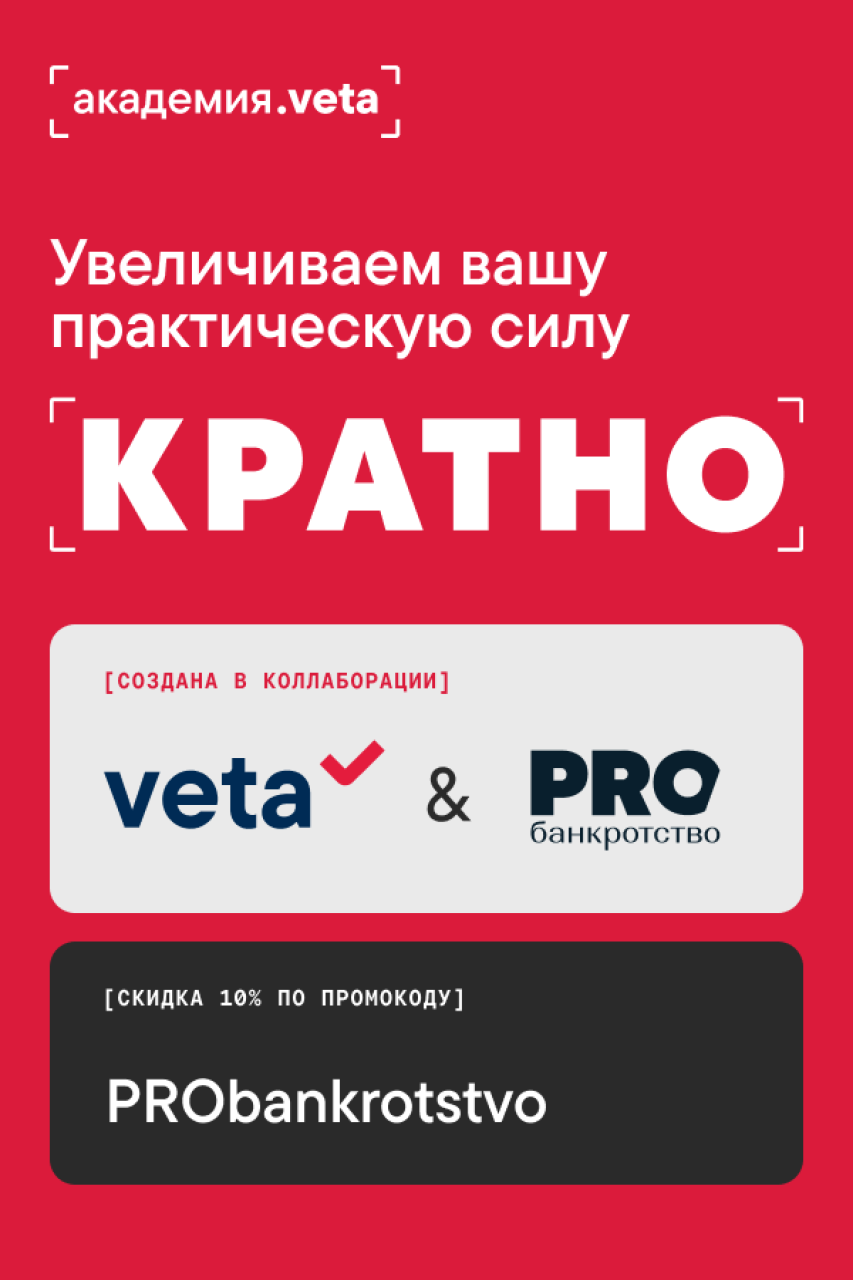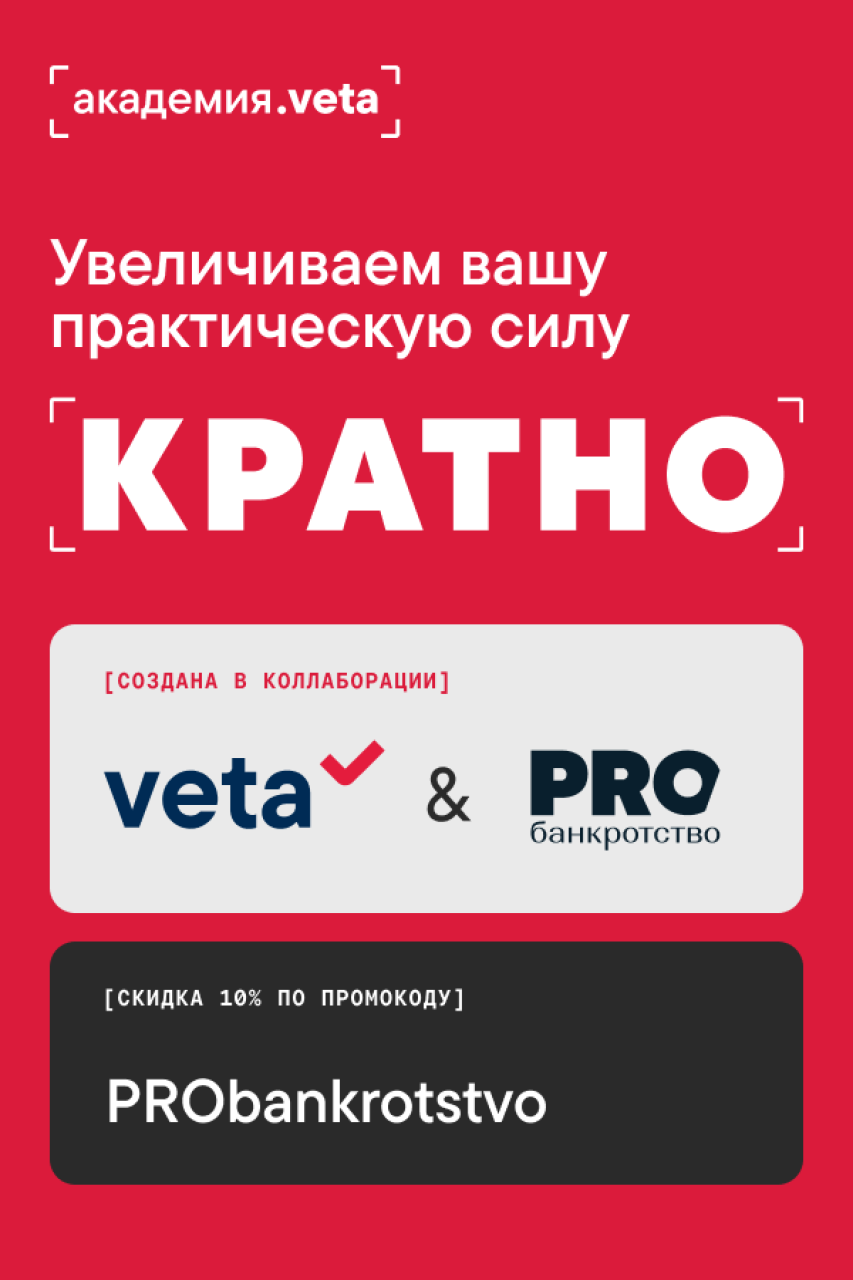Девятый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Московское областное предприятие "Союзпечать"» Александра Максимова и Андрея Филина (дело № А40-121456/20). Ранее суд первой инстанции также признал доказанным наличие оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Александр Максимов являлся генеральным директором АО «МОП "Союзпечать"» с 14 февраля 2018 г. по 23 апреля 2021 г. Андрей Филин был генеральным директором мажоритарного акционера должника АО «АРИА-АиФ» (владеющего 89,8% акций) в период с 6 марта 2017 г. по 28 августа 2019 г. Таким образом, оба ответчика были признаны контролирующими должника лицами.
Апелляционный суд установил, что Александр Максимов, несмотря на решение суда от 13 декабря 2021 г., не передал конкурсному управляющему оригиналы документации, печати, штампы и материальные ценности должника. Это повлекло существенное затруднение проведения процедур банкротства, формирования и реализации конкурсной массы.
Суд также выявил, что в период с 1 июня 2018 г. по 21 мая 2019 г. должник исполнил обязательства за своего акционера АО «АРИА-АиФ» на сумму 21,6 млн рублей без встречного предоставления. При этом деятельность АО «АРИА-АиФ» была убыточной и в отношении него 14 сентября 2018 г. было подано заявление о банкротстве.
Существенный размер оплат должником за акционера, находящегося в кризисе, повлек возникновение и рост задолженности самого должника. Оплата не имела экономического смысла и привела к ситуации имущественного кризиса АО «МОП "Союзпечать"».
Апелляционный суд пришел к выводу о совместном совершении Андреем Филиным и Александром Максимовым действий, явившихся причиной банкротства должника.
Почему это важно
Решения судов первой и апелляционной инстанций по делу о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей «Союзпечати» выглядят обоснованными и вписываются в общий тренд развития практики, отметил Даниил Наймушин, управляющий партнер Юридической компании «Один к одному».
В материалах дела, продолжил он, установлен значительный объем необоснованных выплат за мажоритарного акционера (сумма свыше 21 млн руб.), при том что, по данным отчета о движении денежных средств, за 2018 г. поступления компании немногим превышали 60 млн рублей. Такие действия не имели разумного экономического смысла и закономерно повлекли рост задолженности у самого должника, что в конечном счете и привело к банкротству.
Отдельным основанием для привлечения стало непредоставление документации конкурсному управляющему, что существенно затруднило проведение процедур банкротства, указал Даниил Наймушин.
Суды справедливо применили презумпции, закрепленные в ст. 61.11 Закона о банкротстве, и поддержали доводы управляющего о невозможности формирования конкурсной массы. Перспективы обжалования решений на данном этапе не выглядят высокими. Судебные акты подробно мотивированы, основаны на совокупности доказательств. Однако окончательные выводы о том, есть ли шансы на обжалование, без анализа материалов дела, сделать невозможно, так как в судебных актах редко находят свое отражение все доводы жалующихся лиц, несмотря на то, что часто такие доводы являются существенными.
По словам Юлии Литовцевой, партнера Юридической компании «Пепеляев Групп», обоснование привлечения ответчиков к ответственности за непередачу документации выглядит вполне обоснованным с точки зрения теории. Но к ней недостает ответов на важный практический вопрос: отсутствие какой именно документации воспрепятствовало осуществлению конкурсного производства?
Кроме того, апелляционный суд не дал никакой оценки доводу и доказательствам бывшего руководителя об отправке документов управляющему. При этом в тексте апелляционного постановления соответствующий довод отражен, пояснила она.
В практике давно сформирован подход о необходимости устанавливать наличие или отсутствие негативных последствий непередачи документов. Кроме того, в случае предоставления документации хотя и «с опозданием», ответчику в привлечении к ответственности может быть отказано. Вызывает сомнение и привлечение к ответственности руководителя компании – акционера должника при том, что убыточные сделки были совершены именно в пользу акционера, однако требования к последнему в деле не были заявлены. Подобный подход в судебной практике уже привлек внимание вышестоящих инстанций, и, возможно, в ближайшее время по нему будет сформирована позиция. Одним словом, перспективы оставления постановления апелляционного суда в силе весьма неоднозначны.