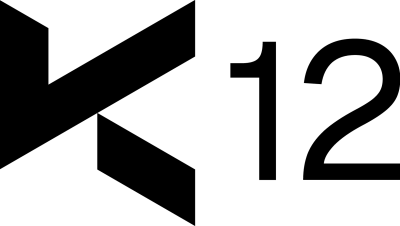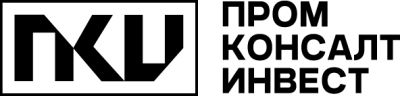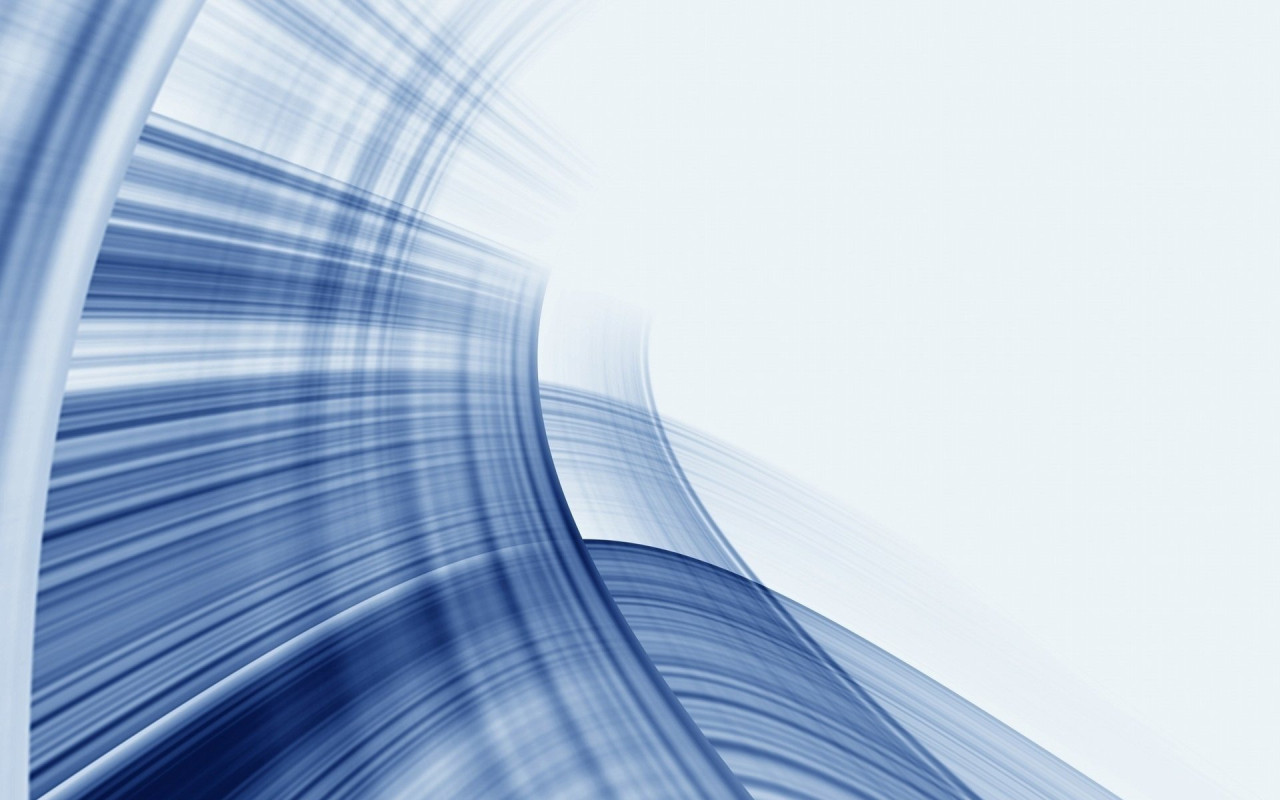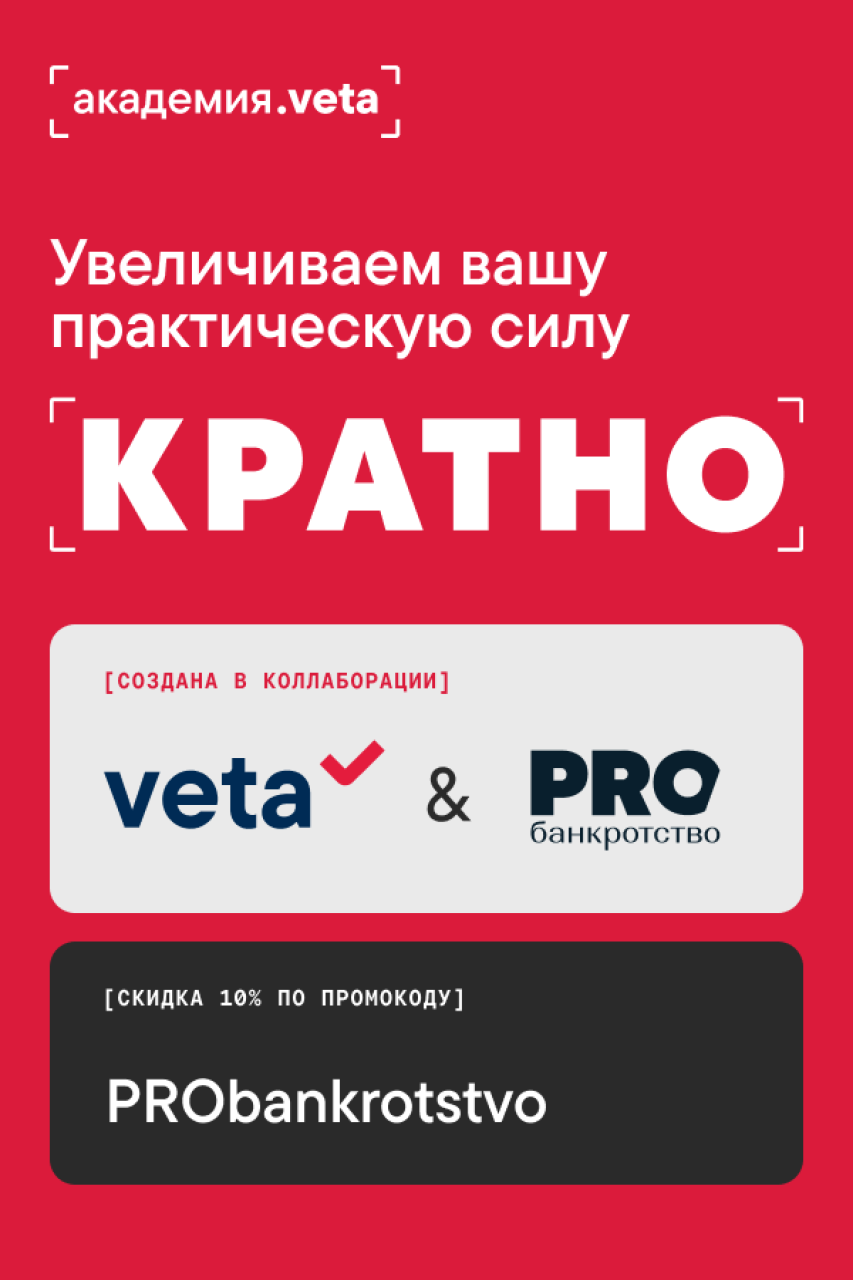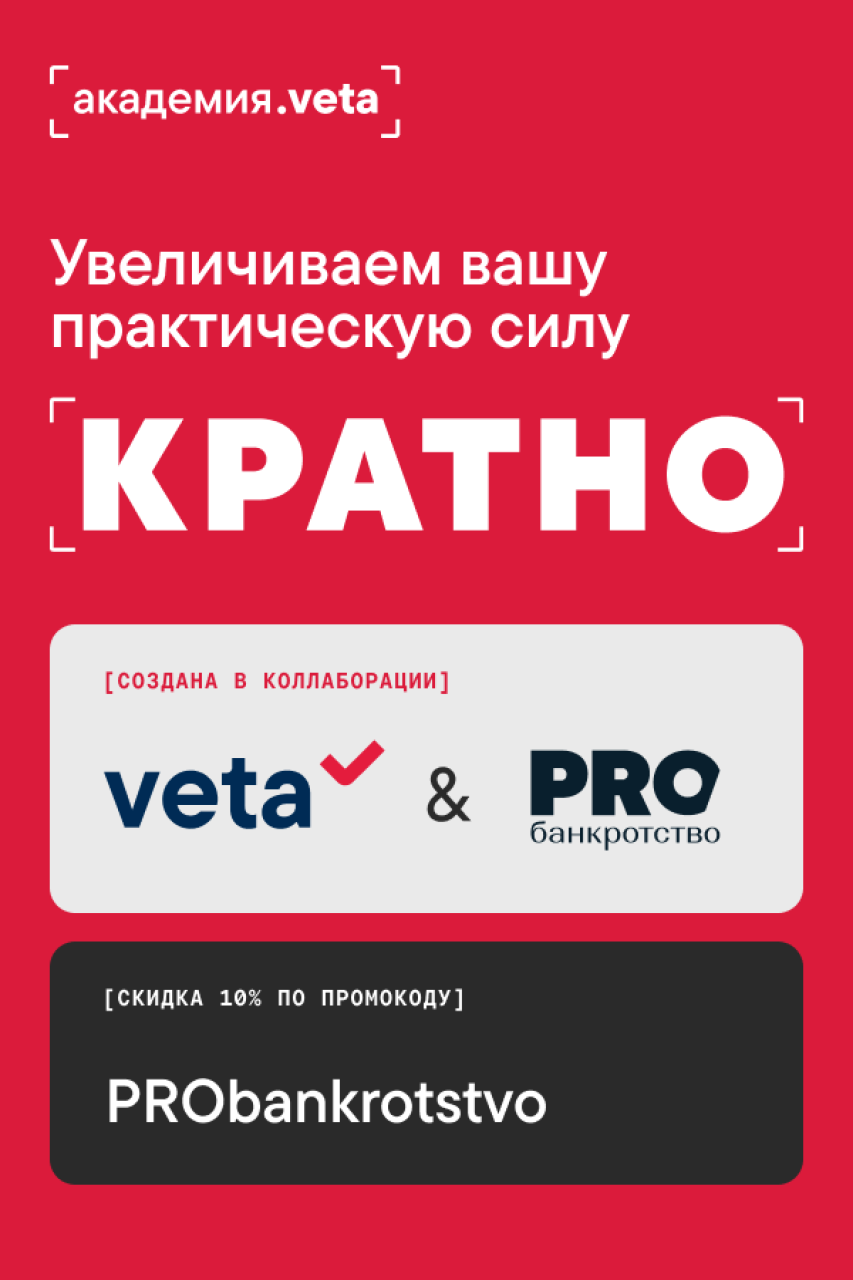Должны ли контролирующие должника лица (КДЛ) отвечать за суммы, которые часто воспринимаются как дополнительные или даже карательные? Где грань между справедливым возмещением вреда и чрезмерным бременем для контролирующих лиц? Давайте разберемся, как санкции за нарушение обязательств, в частности неустойка и штрафы, вписываются в механизм субсидиарной ответственности, опираясь на нормы права и судебную практику.
Неустойка – это, пожалуй, самый распространенный вид санкций за нарушение обязательств. Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ, она представляет собой заранее определенную сумму, которую должник обязан выплатить кредитору за просрочку или ненадлежащее исполнение обязательств. Представьте: компания заказала поставку материалов, но не оплатила вовремя, и в договоре прописано, что за каждый день просрочки начисляется 0,1% от суммы. Это и есть неустойка. Она может быть договорной, если стороны сами договорились о ней, или законной, как, например, пени за просрочку коммунальных платежей.
Неустойка выполняет две функции:
побуждает должника скорее исполнить обязательство;
компенсирует кредитору потери от задержки.
Иногда она даже избавляет от необходимости доказывать реальный ущерб, что делает ее удобной для кредиторов.
В контексте банкротства все становится более многообразно. Когда компания-должник не может рассчитаться с кредиторами, их внимание переключается на тех, кто ею управлял: директоров, учредителей или даже скрытых бенефициаров, которые фактически давали обязательные для бизнеса указания.
Субсидиарная ответственность КДЛ, закрепленная в ст. 61.11 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), строится на идее возмещения вреда. Если КДЛ своими действиями – скажем, выводом активов, сокрытием имущества или игнорированием признаков неплатежеспособности – довело компанию до состояния неплатежеспособности, оно должно финансово ответить перед кредиторами. И вот здесь возникает главный вопрос: если в реестре требований кредиторов значится не только основной долг, но и санкции за неисполнение обязательств, обязано ли КДЛ покрывать все это?
Для того чтобы понять, как санкции попадают в структуру субсидиарной ответственности, нужно начать с того, как они оказываются в реестре требований кредиторов должника.
Статья 12 Закона о банкротстве позволяет включать в реестр требования, подтвержденные документами: судебным решением, договором, актом выполненных работ, актом сверки и прочими документами, способными достоверно и объективно доказать факт наличия задолженности и ее размер. Неустойка также подлежит включению в реестр, если она надлежащим образом доказана. Допустим, поставщик доказал, что должник не оплатил товар, а в договоре прописана неустойка за просрочку. Суд включит ее в реестр наравне с основным долгом. Но суды должны проверять, насколько она обоснована и доказана – как по праву, так и по размеру, а также соответствует критериям разумности и справедливости.
Статья 333 ГК РФ дает право снизить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения. Например, если за просрочку платежа в 1 млн рублей начислено 2 млн пени, суд может уменьшить эту сумму, чтобы она не выглядела попыткой неосновательно обогатиться за счет должника, а в деле о банкротстве такое обогащение происходит за счет добросовестных кредиторов, поскольку требования предъявляются к конкурсной массе как опосредованному объему его имущества, за счет которого возможен расчет с кредиторами.
Пункт 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве говорит, что КДЛ отвечает за весь объем требований кредиторов, которые не удалось погасить из-за недостатка имущества должника. Раз неустойка включена в реестр, она подпадает под это правило. Но субсидиарная ответственность – это не просто перекладывание долгов компании на физическое лицо. Как неоднократно пояснял Конституционный Суд РФ, субсидиарная ответственность имеет деликтную природу, основанную на ст. 1064 ГК РФ. Это значит, что КДЛ обязано погасить ущерб, возникший в результате вреда, который оно причинило кредиторам должника своими действиями и/или бездействием: например, не подав заявление о банкротстве, когда компания уже не могла платить по счетам, или растратив ее активы.
Судебная практика подтверждает, что неустойка может включаться в состав субсидиарной ответственности, но требует доказательств вины КДЛ. Так, в рамках дела № А56-72553/2017 руководитель компании был привлечен к ответственности в сумме 61477294,65 рублей, из которых 1403181,50 рублей составила неустойка за просрочку исполнения обязательств перед кредиторами, установленная судебными актами, послужившими основанием для включения их требований в реестр требований кредиторов. Неустойка вошла в сумму ответственности, так как была частью подтвержденного долга, который не удалось взыскать из-за бездействия КДЛ.
Вместе с тем суды стали прислушиваться к доводам КДЛ о том, что размер обязательств, установленный с учетом санкций, влияет на объем вмененной и возможной к присуждению им суммы для возмещения субсидиарной ответственности. Это в рамках рассмотрения споров о привлечения должника к ответственности может стать основанием для привлечения КДЛ в качестве третьих лиц. Примером такого отношения может служить определение ВС РФ от 6 марта 2022 г. № 303-ЭС22-22958 по спору об обжаловании решения ФНС России о взыскании недоимки по налогам и сборам, а также санкций за их несвоевременную уплату. Суд указал, что в случае привлечения КДЛ должника к субсидиарной ответственности потенциальный размер его ответственности перед кредиторами будет определяться, в том числе, оспариваемым решением налогового органа с учетом санкций, и отменил судебные акты трех инстанций, которыми было отказано в привлечении руководителя к ответственности за налоговые правонарушения организации, привлекаемой в качестве третьего лица к рассматриваемому спору для обеспечения возможности прав на защиту.
Как итог, в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ № 50-П от 30 октября 2023 г. КДЛ может быть привлечено к субсидиарной ответственности за штрафы, возникающие в результате нарушения обязательств. Данное постановление было принято по жалобе Л.В. Валиулиной о проверке конституционности п. 9 и 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве, которую привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-должника, в которой она была руководителем и единственным учредителем. Существенную долю в составе возложенных на нее обязательств составили штрафы, наложенные на должника – юридическое лицо, находившееся под ее контролем.
В указанном постановлении Конституционный Суд, хотя и установил, что п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве не противоречит Конституции РФ, однозначно сформулировал позицию о том, что данная норма не может использоваться для взыскания с лица, контролирующего должника, в составе субсидиарной ответственности суммы штрафов за налоговые правонарушения, наложенных на организацию налогоплательщика. Это связано с тем, что природа субсидиарной ответственности – гражданско-правовая, а не публично-правовая. Она направлена на возмещение вреда кредиторам, а не на наказание за налоговые правонарушения. Штрафы же носят карательный характер и являются мерой налоговой ответственности, которая должна применяться только к самому налогоплательщику, а в данном случае к организации, признанной виновной в совершении правонарушения.
Согласно принципу индивидуализации ответственности – штрафы как вид наказания налагаются на организацию за ее конкретные правонарушения, и перекладывание этой ответственности на физическое лицо (руководителя) нарушает принцип соразмерности и справедливости. Конституционный Суд подчеркивает, что физическое лицо не должно нести ответственность за налоговые санкции, которые по своей природе адресованы юридическому лицу.
Рассматриваемая позиция Конституционного Суда основана на предыдущих позициях, в том числе, сформулированной в постановлении от 8 декабря 2017 г. № 39-П, где было установлено, что взыскание штрафов с физических лиц за налоговые правонарушения организации противоречит Конституции РФ, так как это выходит за рамки восстановительного характера ответственности и носит необоснованно карательный характер. Включение штрафов в состав и размер субсидиарной ответственности КДЛ нарушает баланс между защитой прав кредиторов и правами контролирующих лиц. Суды должны учитывать только реальный вред, причиненный кредиторам (недоимки, пени), а не штрафы, которые являются наказанием организации за нарушения налогового законодательства.
Особое значение имеет аргументация суда, основанная на конституционных принципах. В постановлении подчеркивается, что взыскание налоговых штрафов с физических лиц нарушает базовые права человека, гарантированные Основным законом страны:
Во-первых, это принцип индивидуализации ответственности, который не позволяет наказывать человека за действия организации.
Во-вторых, принцип соразмерности, так как суммы штрафов часто многократно превышают реальный ущерб.
В-третьих, право на защиту собственности, поскольку подобные взыскания фактически означают непредусмотренное законом дополнительное налогообложение личных активов предпринимателей.
Примечательно, что суд не просто запретил взыскивать штрафы, но и дал четкие ориентиры для правоприменительной практики. Теперь субсидиарная ответственность может включать только реальный ущерб кредиторов – основную задолженность, пени и убытки. Все судебные акты, вынесенные ранее в истолковании, расходящемся с конституционно-правовым смыслом положений ст. 11 Закона о банкротстве, выявленным в постановлении № 50-П, подлежат пересмотру в установленном порядке. Это создает важный прецедент защиты прав добросовестных предпринимателей, которые нередко становились заложниками формального подхода налоговых органов и судов.
Философская глубина этого постановления проявляется в том, что Конституционный Суд фактически провел границу между бизнесом и личностью предпринимателя. Компания остается самостоятельным участником экономических отношений, а ее руководитель не должен превращаться в «заложника» корпоративных обязательств. Такой подход соответствует лучшим мировым практикам защиты предпринимательской деятельности и создает более здоровый инвестиционный климат в стране.
Последствия этого решения трудно переоценить. С одной стороны, оно защищает предпринимателей от необоснованных претензий, с другой – сохраняет баланс интересов, позволяя кредиторам (включая государство) взыскивать реальный ущерб. Но главное – это решение устанавливает четкие правовые ориентиры, которые должны положить конец практике «охоты на руководителей» при банкротстве компаний.
В перспективе данное постановление может стать отправной точкой для дальнейшего совершенствования законодательства о банкротстве, делая его более справедливым и предсказуемым для всех участников экономических отношений. Это именно тот случай, когда судебное решение не просто разрешает конкретный спор, но и задает вектор развития всей правовой системы в направлении большей защиты прав и свобод человека.
В итоге можно сказать, что включение неустойки или пени в состав субсидиарной ответственности – это естественное продолжение курса защиты интересов кредиторов, понесших материальный ущерб от недобросовестных действий КДЛ. Суды учитывают такие суммы в составе возлагаемой на КДЛ субсидиарной ответственности. Вместе с тем, занимая активную позицию в споре, можно достичь решения на основе справедливого баланса интересов, когда на каждого из руководителей будет возложен объем ответственности, соразмерный ущербу, возникшему по его вине. В то же время, благодаря позиции Конституционного Суда РФ, на контролирующих должника лиц не подлежат возложению обязанности по погашению санкций, примененных к организации в публично-правовом порядке, за нарушение законодательства о налогах. И все же для успешного применения данной позиции требуется активная работа в процессе.